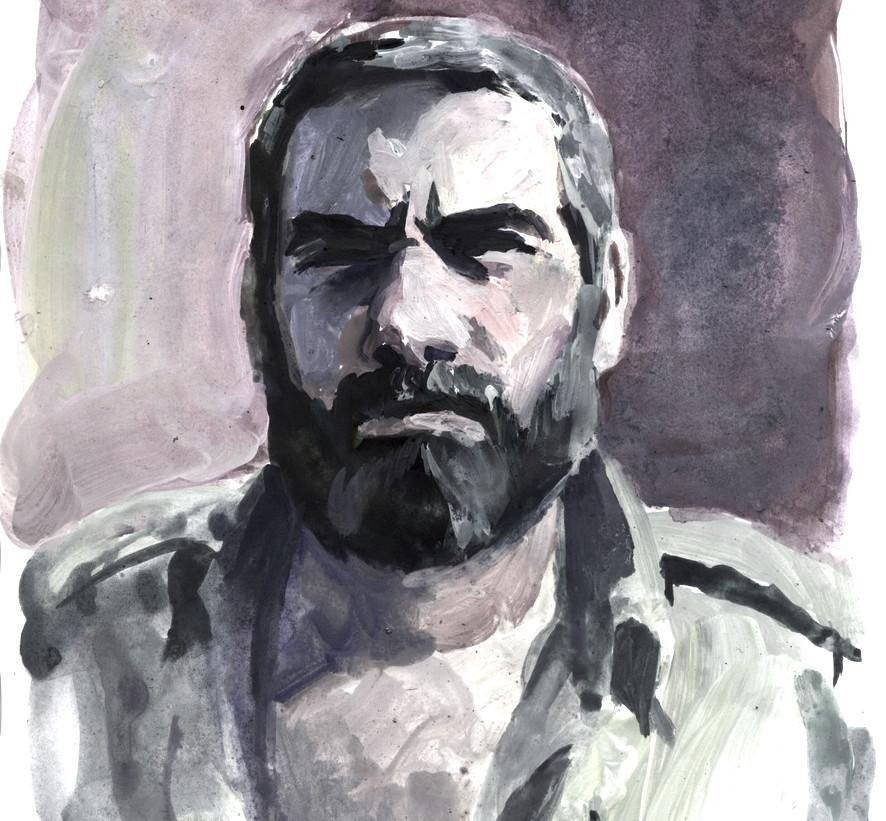[Восстановлено]
Решил продолжить наш давешний разговор о стиле, тем более что подвернулся повод — только закончил (бросил, не дочитав) повесть Сергея Гандлевского «Трепанация черепа». Повесть эта примечательна тем, что схватила в далёком 1996 году «Малого Букера» — впрочем, это дела давно минувших дней, а вот то, что текст вроде бы не затерялся под пылью истории и висит в списках сайта «Полка», редакторам которого я доверяю как родственникам, о чём-то да говорит. И вот эта повесть навела меня на некоторые размышления о стиле, а тут ещё не к ночи вспомнился брутальный мастер Довлатов… Поэтому читайте, думайте и высказывайте своё мнение в комментариях.
Трепанация стиля
Так вот, Сергей Гандлевский, больше известный в качестве поэта, и «Трепанация черепа» (больше известная в качестве повести). Не буду сейчас пересказывать сюжет, потому что сюжета как такового там нет, а есть оригинальная композиция, вариация потока сознания, а повествование только и делает, что с ужасной силой крутится, вращается и куда-то летит, перескакивает с первого на второе, от одного воспоминания к следующему, отстоящему от первого то на пять, то на тридцать лет, и связанному белой ниткой, каким-то знакомым или подтекстом, а иногда и вовсе никак не связанному. Если помните, товарищ Бёрроуз юзал метод газетных обрезков, нарезался текст на полосы и по-новому склеивался; а здесь на полосы нарезаны воспоминания, но эффект примерно такой же.
Однако художественная сила текста не связана с оригинальностью композиции, выделяющейся разве что на фоне лоточной типовой беллетристики да рабоче-крестьянских опусов старцев Союза писателей, сколько экспрессивным и точным авторским стилем.
«Но главные сюрпризы начались за Макатом. Продали всё, что плохо лежало, и пропили. Покончили с «колёсами» — экспедиционной аптечкой — и вот уже Витя Кукушкин, что твой Франциск Ассизский, беседует с кедами по душам. Мне-то что: я читаю. В одно прекрасное утро остро запахло кофе. Ночью состав переформировали и вплотную к нашим платформам пристегнули вагон с колониальным товаром. Совет в Филях длился недолго. Мои отпетые сотрудники на ходу, по-волчьи, один за одним перемахнули на крышу впереди идущего вагона. Товарняк в сорок вагонов грохотал по совершенно плоской полупустыне, и только редкие верблюды оживляли прекрасный по-своему пейзаж. Кто-то свесился и сбил пломбы. Дверь откатили, грабёж начался. Через четверть часа пять-шесть больших коробов с молотым арабика загромоздили платформу. Грабители даже не удосужились накрыть улики брезентом. Разбрелись спать кто куда.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение
Утром следующего дня на каком-то разъезде мы подобрали двоих. Одного, сухощавого, с зубами в шахматном порядке, звали Миша Чумак, а другого, совсем молодого, бритого — уже не помню как. Помню только, что был он богато проиллюстрирован: шея, грудь, спина, живот — русалки, орлы, факелы — всего не перечесть. И вид имел подонистый.»
Мне этот стиль своей лаконичностью, афористичностью и тягой к каверзным выражениям напомнил Сергея Довлатова. Но, кажется, и там и там история не столько про высказывание (совсем не этим героям суждено было стать глашатаями новой эпохи), сколько про мастерство — желание утереть нос сидящим по дачам номенклатурным старцам и показать, где рождается и живёт настоящее «чистое» искусство. Отсюда и пристальное, набоковское внимание к каждому слову, к каждому предложению: очищенный от всего лишнего художественный язык и есть философский камень искусства.
Правда, в моей памяти Довлатов-стилист оказывается чуть более хорош, чуть более осанист и мощен, чем на бумаге:
«Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные тёмные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стёкла – заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля.
В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с чёрными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли. Утюг, заменявший гирю, касался пола.
Две кошки геральдического вида – угольно-чёрная и розовато-белая – жеманно фланировали по столу, огибая тарелки. Хозяин шуганул их подвернувшимся валенком. Звякнули осколки. Кошки с безумным рёвом перелетели в тёмный угол.
Соседняя комната выглядела ещё безобразнее. Середина потолка угрожающе нависала. Две металлические кровати были завалены тряпьём и смердящими овчинами. Повсюду белели окурки и яичная скорлупа.»
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе
С. Довлатов, «Заповедник»
Тут — во всяком случае, в приведённых отрывках — слог Гандлевского выглядит пособраннее, посильнее. Но мы всё-таки не на баттле писателей, и оставлять без внимания структуру отрывков нельзя, так как именно в этой бреши и сокрыта подсказка. Отрывок из «Заповедника» — чистое описание, не слишком, в общем-то, характерное для подобной прозы, динамики в нём — две кошки и призванный к левитации валенок, и явное ощущение, что автору негде здесь развернуться, в декорациях, обстановке и статике нет бурлящего потока жизни, а значит, и точек приложения стиля. Гандлевский, наоборот, расчётливо избегает рассуждений и описаний, его проза стремительна, картинки мелькают, как в страшном сне эпилептика, восстают из ада всё новые и новые персонажи, происходят комические случаи и передряги. И вот на этой-то щедрой почве короткий язык афоризма и меткого замечания расцветает во всей красе. Стиль питается фактурой, поглощает и перерабатывает её в гигантских масштабах, отбрасывая всё лишнее за поля. В итоге история, по которой можно писать повесть, умещается у автора на двух страницах, а то и на двух абзацах. Пошли туда-то с таким-то (характерное описание). Случилось то-то и то-то (описание). Следующий эпизод. Такая схема.
Почему нельзя писать как Довлатов?
Я уже упоминал в прошлой записи, что мне очень импонирует стиль Довлатова, да и слог Сергея Гандлевского не может не радовать мои рецепторы прекрасного. Но как бы ни были сильны эти двое в своих умениях, как бы ни хотелось соответствовать и подражать, писать в их манере — значит терять и отказываться. И дело не в том, что нужно иметь особую группу крови, принадлежность к питерской или московской богеме 70-80-х, а в том, что довлатовский стиль приложим, видимо, только к единственному сорту литературы, представление о котором уже создали для нас Сергей Донатович и Сергей Маркович. Фактически это такие истории, байки и (алкогольные) похождения. Где краеугольно важна размывающая привычные будни странность происходящего, своеобразие (часто эксцентрически-маргинальное) присутствующих персонажей, переброс хлёсткими фразочками в диалогах и афористические попадания в мелочи жизни, а всё остальное — неважно, и как будто не существует, как выкинуто у Гандлевского всё или почти всё, мешающее раскрытию его дара слова. Да, в подобных пробирочных условиях экспрессия стиля бушует в полную мощь!
Тут же, в скобках, можно вспомнить интересную работу А. Гарроса и А. Евдокимова «Голово[ломка]», также поражающую неподготовленную публику игрой слов и бойким эрудированным авторским стилем, но ровно так же беспомощную и сюжетно, и смыслово. На почву баек, известно, нередко вступал и Михаил Веллер, но вся эта литературная традиция, захватывающая, безусловно, более широкий круг современных писателей, включая даже Сорокина и Пелевина, растёт из классика — М. Салтыкова-Щедрина и «Истории одного города».
Мне этот великолепный шрапнельный язык напоминает искусство карикатуры. Из-за активного использования редких слов, подменяющих точные по смыслу выражения в угоду пущей художественности, бесконечной тяге к словесной игре, он уводит повествование в области иронии и насмешки (в случае Довлатова — часто над самим собой), обсекая палитру чувств до парочки самых ярких, но заученных красок. Я не могу представить, как в этом стиле описать трагедию, что-то действительно важное, где не уместна ни ирония, ни ёрничество (впрочем, мы уже видели попытку Довлатова в теме русской тюрьмы — «Зона (Записки надзирателя)» и его вступление к ней), как описать любовь, в конце-то концов. Не стоит и говорить об описании каких-либо философских концепций — для выражения мысли важна точность формулировок, а не их эффектность.
Поэтому, как мне кажется, знаменитый довлатовский стиль так и останется, в целом, инструментом короткой прозы; причём весьма специфического её извода. Хотите ли вы идти этим путём или пробовать замазывать стены нулёвкой, решать вам.
На этом всё на сегодня. Как всегда жду ваши мнения в комментариях. До скорой встречи!